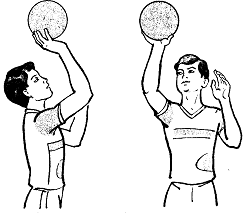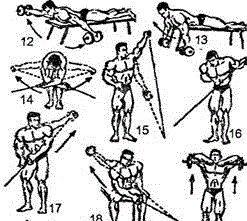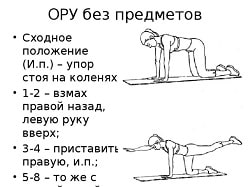Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Под крыльями авдеевского дьявола
Борис собрал деньги и исчез в ночь, к какой‑то бабе, мужа которой он лечил от пулевой раны, полученной при каких‑то таинственных обстоятельствах. Лечил, конечно, нелегально. Сельского врача здесь не было, а лагерный, за «связь с местным населением», рисковал получить три года прибавки к своему сроку отсидки. Впрочем, при данных условиях – прибавка срока Бориса ни в какой степени не смущала. Борис пошел и пропал. Мы с Юрой сидели молча, тупо глядя на прыгающее пламя печки. Говорить не хотелось. За окном метались снежные привидения вьюги, где‑то среди них еще, может быть, брел к своему бараку человек со сгнившими пальцами, с логикой сумасшедшего и с проницательностью одержимого… Но брел ли он к баракам или к проруби? Ему, в самом деле, проще было брести к проруби. И ему было бы спокойнее, и, что греха таить, было бы спокойнее и мне. Его сумасшедшее пророчество насчет нашего бегства, сказанное где‑нибудь в другом месте, могло бы иметь для нас катастрофические последствия. Мне все казалось, что «на воре и шапка горит», что всякий мало‑мальски толковый чекист должен по одним физиономиям нашим установить наши преступные наклонности к побегу. Так я думал до самого конца: чекистскую проницательность я несколько преувеличил. Но этот страх разоблачения и гибели – оставался всегда. Пророчество Авдеева резко подчеркнуло его. Если такую штуку смог сообразить Авдеев, то почему ее не может сообразить, скажем, Якименко?.. Не этим ли объясняется якименская корректность и прочее? Дать нам возможность подготовиться, выйти и потом насмешливо сказать: «Ну что ж, поиграли – и довольно, пожалуйте к стенке». Ощущение почти мистической беспомощности, некоего невидимого, но весьма недреманного ока, которое, насмешливо прищурившись, не спускает с нас своего взгляда, – было так реально, что я повернулся и оглядел темные углы нашей избы. Но изба была пуста… Да, нервы все‑таки сдают… Борис вернулся и принес две бутылки водки. Юра встал, зябко кутаясь в бушлат, налил в котелок воды и поставил в печку… Расстелили на полу у печки газетный лист. Борис выложил из кармана несколько соленых окуньков, полученных им на предмет санитарного исследования, из посылки мы достали кусок сала, который, собственно, был уже забронирован для побега и трогать который не следовало бы…
Юра снова уселся у печки, не обращая внимания даже и на сало, – водка его вообще не интересовала. Его глаза под темной оправой очков казались провалившимися куда‑то в самую глубину черепа. – Боба, – спросил он, не отрывая взгляда от печки, – не мог бы ты устроить его в лазарет надолго? – Сегодня мы не приняли семнадцать человек с совсем отмороженными ногами, – сказал, помолчав, Борис. – И еще – пять саморубов… Ну, тех вообще приказано не принимать и даже не перевязывать. – Как, и перевязывать нельзя? – Нельзя. Чтоб неповадно было… Мы помолчали. Борис налил две кружки и из вежливости предложил Юре. Юра брезгливо поморщился. – Так что же ты с этими саморубами сделал? – сухо спросил он. – Положил в покойницкую, где ты от БАМа отсиживался… – И перевязал? – продолжал допрашивать Юра. – А ты как думаешь? – Неужели, – с некоторым раздражением спросил Юра, – этому Авдееву совсем уж никак нельзя помочь? – Нельзя, – категорически объявил Борис. Юра передернул плечами. – И нельзя по очень простой причине. У каждого из нас есть возможность выручить несколько человек. Не очень много, конечно. Эту ограниченную возможность мы должны использовать для тех людей, которые имеют хоть какие‑нибудь шансы стать на ноги. Авдеев не имеет никаких шансов. – Тогда выходит, что вы с Батиком глупо сделали, что вытащили его с девятнадцатого квартала? – Это сделал не я, а Ватик. Я этого Авдеева тогда в глаза не видал. – А если бы видал? – Ничего не сделал бы. Ватик просто поддался своему мягкосердечию. – Интеллигентские сопли? – иронически переспросил я. – Именно, – отрезал Борис. Мы с Юрой переглянулись. Борис мрачно раздирал руками высохшую в ремень колючую рыбешку. – Так что, наши бамовские списки – по‑твоему, тоже интеллигентские сопли? – с каким‑то вызовом спросил Юра. – Совершенно верно. – Ну, Боба, ты иногда такое загнешь, что и слушать противно. – А ты не слушай. Юра передернул плечами и снова уставился в печку. – Можно было бы не покупать этой водки и купить Авдееву четыре кило хлеба.
– Можно было бы. Что же, спасут его эти четыре кило хлеба? – А спасет нас эта водка? – Мы пока нуждаемся не в спасении, а в нервах. Мои нервы хоть на одну ночь отдохнут от лагеря… Ты вот работал со списками, а я работаю с саморубами… Юра не ответил ничего. Он взял окунька и попробовал разорвать его. Но в его пальцах, иссохших, как и этот окунек, силы не хватило. Борис молча взял у него рыбешку и разорвал ее на мелкие клочки. Юра ответил ироническим «спасибо», повернулся к печке и снова уставился в огонь. – Так все‑таки, – несколько погодя спросил он сухо и резко, – так все‑таки почему же бамовские списки – это интеллигентские сопли? Борис помолчал. – Вот видишь ли, Юрчик, поставим вопрос так: у тебя, допустим, есть возможность выручить от БАМа икс человек. Вы выручали людей, которые все равно не жильцы на этом свете, и, следовательно, посылали людей, которые еще могли бы прожить какое‑то там время, если бы не поехали на БАМ. Или будем говорить так: у тебя есть выбор – послать на БАМ Авдеева или какого‑нибудь более или менее здорового мужика. На этапе Авдеев помрет через неделю, здесь он помрет, скажем, через полгода – больше и здесь не выдержит. Мужик, оставшись здесь, просидел бы свой срок, вышел бы на волю ну и так далее. После бамовского этапа он станет инвалидом. И срока своего, думаю, не переживет. Так вот, что лучше и что человечнее: сократить агонию Авдеева или начать агонию мужика? Вопрос был поставлен с той точки зрения, от которой сознание как‑то отмахивалось. В этой точке зрения была какая‑то очень жестокая – но все‑таки правда. Мы замолчали. Юра снова уставился в огонь. – Вопрос шел не о замене одних людей другими, – сказал наконец он. – Всех здоровых все равно послали бы, но вместе с ними послали бы и больных. – Не совсем так. Но допустим. Так вот, эти больные у меня сейчас вымирают в среднем человек по тридцать в день. – Если стоять на твоей точке зрения, – вмешался я, – то не стоит и твоего сангородка городить: все равно – только рассрочка агонии. – Сангородок – это другое дело. Он может стать постоянным учреждением. – Я ведь не возражаю против твоего городка. – Я не возражал и против ваших списков. Но если смотреть в корень вещей – то и списки, и городок, в конце концов, – ерунда. Тут вообще ничем не поможешь… Все это – для очистки совести и больше ничего. Единственно, что реально: нужно драпать, а Ватик все тянет… Мне не хотелось говорить ни о бегстве, ни о том трагическом для русских людей лозунге: «чем хуже – тем лучше». Теоретически, конечно, оправдан всякий саботаж: чем скорее все это кончится, тем лучше. Но на практике – саботаж оказывается психологически невозможным. Ничего не выходит… Теоретически Борис прав: на Авдеева нужно махнуть рукой. А практически? – Я думаю, – сказал я, – что пока я торчу в этом самом штабе, я смогу устроить Авдеева так, чтобы он ничего не делал. – Дядя Ваня, – сурово сказал Борис. – На Медгору все кнопки уже нажаты. Не сегодня‑завтра нас туда перебросят – и тут уж мы ничего не поделаем. Твоя публика из свирьлаговского штаба тоже через месяц сменится – и Авдеева, после некоторой передышки, снова выкинут догнивать на девятнадцатый квартал. Ты жалеешь потому, что ты только два месяца в лагере и что ты, в сущности, ни черта еще не видал. Что ты видал? Был ты на сплаве, на лесосеках, на штрафных лагпунктах? Нигде ты еще, кроме своего УРЧ, не был… Когда я вам в Салтыковке рассказывал о Соловках, так Юрчик чуть не в глаза мне говорил, что я не то преувеличиваю, не то просто вру. Вот еще посмотрим, что нас там на севере, в ББК, будет ожидать… Ни черта мы по существу сделать не можем: одно самоутешение. Мы не имеем права тратить своих нервов на Авдеева. Что мы можем сделать? Одно мы можем сделать – сохранить и собрать все свои силы, бежать и там, за границей, тыкать в нос всем тем идиотам, которые вопят о советских достижениях, что когда эта желанная и великая революция придет к ним, то они будут дохнуть точно так же, как дохнет сейчас Авдеев. Что их дочери пойдут стирать белье в Кеми и станут лагерными проститутками, что трупы и х сыновей будут выкидываться из эшелонов.
Бориса, видимо, прорвало. Он сжал в кулаке окунька и нещадно мял его в пальцах… – … Эти идиоты думают, что за их теперешнюю левизну, за славословие, за лизание сталинских пяток – им потом дадут персональную пенсию! Они‑де будут первыми людьми своей страны!.. Первым человеком из этой сволочи будет тот, кто сломает всех остальных. Как Сталин сломал и Троцкого, и прочих. Сукины дети… Уж после наших эсэров, меньшевиков, Раковских, Муравьевых212 и прочих – можно было бы хоть чему‑то научиться… Нужно им сказать, что когда придет революция, то мистер Эррио213 будет сидеть в подвале, дочь его – в лагерной прачешной, сын – на том свете, а заправлять будет Сталин и Стародубцев. Вот что мы должны сделать… И нужно бежать. Как можно скорее. Не тянуть и не вожжаться с Авдеевыми… К чортовой матери!.. Борис высыпал на газету измятые остатки рыбешки и вытер платком окровавленную колючками ладонь. Юра искоса посмотрел на его руку и опять уставился в огонь. Я думал о том, что, пожалуй, действительно нужно не тянуть… Но как? Лыжи, след, засыпанные снегом леса, незамерзающие горные ручьи… Ну его к чорту – хотя бы один вечер не думать обо всем этом… Юра, как будто уловив мое настроение, как‑то не очень логично спросил, мечтательно смотря в печку: – Но неужели настанет наконец время, когда мы, по крайней мере, не будем видеть всего этого?.. Как‑то – не верится… Разговор перепрыгнул на будущее, которое казалось одновременно и таким возможным, и таким невероятным, о будущем по ту сторону. Авдеевский дьявол перестал бродить перед окнами, а опасности побега перестали сверлить мозг…
На другой день один из моих свирьлаговских сослуживцев ухитрился устроить для Авдеева работу сторожем на еще несуществующей свирьлаговской телефонной станции – из своей станции ББК уволок все, включая и оконные стекла. Послали курьера за Авдеевым, но тот его не нашел. Вечером в нашу берлогу ввалился Борис и мрачно заявил, что с Авдеевым все устроено. – Ну вот, я ведь говорил, – обрадовался Юра, – что если поднажать – можно устроить… Борис помялся и посмотрел на Юру крайне неодобрительно. – Только что подписал свидетельство о смерти… Вышел от нас, запутался, что ли… Днем нашли его в сугробе – за электростанцией… Нужно было вчера проводить его все‑таки… Юра замолчал и съежился. Борис подошел к окну и снова стал смотреть в прямоугольник вьюжной ночи…
Последние дни подпорожья
Из Москвы, из ГУЛАГа, пришла телеграмма: лагерный пункт Погра со всем его населением и инвентарем считать за ГУЛАГом, запретить всякие переброски с лагпункта. Об этой телеграмме мне, в штаб Свирьлага, позвонил Юра, и тон у Юры был растерянный и угнетенный. К этому времени всякими способами были, как выражался Борис, «нажаты все кнопки на Медгору». Это означало, что со дня на день из Медгоры должны привезти требование на всех нас трех. Но Борис фигурировал в списках живого инвентаря Погры, Погра – закреплена за ГУЛАГом, из‑под высокой руки ГУЛАГа выбраться было не так просто, как из Свирьлага в ББК или из ББК – в Свирьлаг. Значит, меня и Юру заберут под конвоем в ББК, а Борис останется здесь… Это – одно. Второе: из‑за этой телеграммы угрожающей тенью вставала мадемуазель Шац, которая со дня на день могла приехать ревизовать свои новые владения и «укрощать» Бориса своей махоркой и своим кольтом. Борис сказал: надо бежать, не откладывая ни на один день. Я сказал: нужно попробовать извернуться. Нам не удалось ни бежать, ни извернуться. Вечером, в день получения этой телеграммы, Борис пришел в нашу избу, мы продискутировали еще раз вопрос о возможном завтрашнем побеге, не пришли ни к какому соглашению и легли спать. Ночью Борис попросил у меня кружку воды. Я подал воду и пощупал пульс. Пульс у Бориса был под сто двадцать: это был припадок его старинной малярии – вещь, которая в России сейчас чрезвычайно распространена. Проект завтрашнего побега был ликвидирован автоматически. Следовательно, оставалось только изворачиваться. Мне было очень неприятно обращаться с этим делом к Надежде Константиновне: женщина переживала трагедию почище нашей. Но я попробовал: ничего не вышло. Надежда Константиновна посмотрела на меня пустыми глазами и махнула рукой: «Ах, теперь мне все безразлично»… У меня не хватило духу настаивать. 15‑го марта вечером мне позвонили из ликвидкома и сообщили, что я откомандировываюсь обратно в ББК. Я пришел в ликвидком. Оказалось, что на нас двоих – меня и Юру – пришло требование из Медгоры в числе еще восьми человек интеллигентного живого инвентаря, который ББК забирал себе.
Отправка – завтра в 6 часов утра. Сделать уже ничего было нельзя. Сейчас я думаю, что болезнь Бориса была везеньем. Сейчас, после опыта шестнадцати суток ходьбы через карельскую тайгу, я уже знаю, что зимой мы бы не прошли. Тогда – я этого еще не знал. Болезнь Бориса была снова как какой‑то рок, как удар, которого мы не могли ни предусмотреть, ни предотвратить. Но списки были уже готовы, конвой уже ждал нас, и оставалось только одно: идти по течению событий… Утром мы сурово и почти молча попрощались с Борисом. Коротко и твердо условились о том, что где бы мы ни были – 28‑го июля утром мы бежим… Больше об этом ничего не было сказано. Перекинулись несколькими незначительными фразами. Кто‑то из нас попытался было даже деланно пошутить – но ничего не вышло. Борис с трудом поднялся с нар, проводил до дверей и на прощание сунул мне в руку какую‑то бумажку: «После прочтешь»… Я зашагал, не оглядываясь: зачем оглядываться?.. Итак, еще одно «последнее прощание»… Оно было не первым. Но сейчас – какие шансы, что нам удастся бежать всем трем? В подавленности и боли этих минут мне казалось, что шансов – никаких, или почти никаких… Мы шли по еще темным улицам Подпорожья, и в памяти упорно вставали наши предыдущие «последние» прощания: в ленинградском ГПУ полгода тому назад, на Николаевском214 вокзале в Моек‑ве, в ноябре 1926 года, когда Бориса за его скаутские грехи отправляли на пять лет в Соловки… Помню: уже с утра, холодного и дождливого, на Николаевском вокзале собралась толпа мужчин и женщин, друзей и родных тех, которых сегодня должны были пересаживать с «черного ворона» Лубянки в арестантский поезд на Соловки. Вместе со мною была жена брата, Ирина, и был его первенец, которого Борис еще не видал: семейное счастье Бориса длилось всего пять месяцев. Никто из нас не знал, ни когда привезут заключенных, ни где их будут перегружать. В те добрые, старые времена, когда ГПУ‑ский террор еще не охватывал миллионов, как он охватывает их сейчас, – погрузочные операции еще не были индустриализированы. ГПУ еще не имело своих погрузочных платформ, какие оно имеет сейчас. Возникали и исчезали слухи. Толпа провожающих металась по путям, платформам и тупичкам. Бледные, безмерно усталые женщины – кто с узелком, кто с ребенком на руках – то бежали куда‑то к посту второй версты, то разочарованно и бессильно плелись обратно. Потом – новый слух, и толпа, точно в панике, опять устремляется куда‑то на вокзальные задворки. Даже я устал от этих путешествий по стрелкам и по лужам, закутанный в одеяло ребенок оттягивал даже мои онемевшие руки, но эти женщины, казалось, не испытывали усталости: их вела любовь. Так промотались мы целый день. Наконец поздно вечером, часов около 11‑ти, кто‑то прибежал и крикнул: «Везут». Все бросились к тупичку, на который уже подали арестантские вагоны. Тогда – это были только вагоны, настоящие, классные, хотя и с решетками, но только вагоны, а не бесконечные телячьи составы, как сейчас. Первый «ворон», молодцевато описав круг, повернулся задом к вагонам, конвой выстроился двойной цепью, дверцы «ворона» раскрылись, и из него в вагоны потянулась процессия страшных людей – людей, изжеванных голодом и ужасом, тоской за близких и перспективами Соловков – острова смерти. Шли какие‑то люди в священнических рясах и люди в военной форме, люди в очках и без очков, с бородами и безусые. В неровном свете раскачиваемых ветром фонарей, сквозь пелену дождя мелькали неизвестные мне лица, шедшие, вероятнее всего, на тот свет… И вот: Полусогнувшись, из дверцы «ворона» выходит Борис. В руках – мешок с нашей последней передачей, вещи и провиант. Лицо стало бледным как бумага – пять месяцев одиночки без прогулок, свиданий и книг. Но плечи – так же массивны, как и раньше. Он выпрямляется и своими близорукими глазами ищет в толпе меня и Ирину. Я кричу: – Cheer up, Bobby!215 Борис что‑то отвечает, но его голоса не слышно: не я один бросаю такой, может быть, прощальный крик. Борис выпрямляется, на его лице бодрость, которую он хочет внушить нам, он подымает руку, но думаю, он нас не видит: темно и далеко. Через несколько секунд его могучая фигура исчезает в рамке вагонной двери. Сердце сжимается ненавистью и болью… Но, о господи… Идут еще и еще. Вот какие‑то девушки в косыночках, в ситцевых юбчонках – без пальто, без одеял, безо всяких вещей. Какой‑то юноша лет 17‑ти, в одних только трусиках и в тюремных «котах»216. Голова и туловище закутаны каким‑то насквозь продырявленным одеялом. Еще юноша, почти мальчик, в стоптанных «тапочках», в безрукавке и без ничего больше… И этих детей в таком виде шлют в Соловки!.. Что они, шестнадцатилетние, сделали, чтобы их обрекать на медленную и мучительную смерть? Какие шансы у них вырваться живыми из соловецкого ада?.. Личную боль перехлестывает что‑то большее. Ну что Борис? С его физической силой и жизненным опытом, с моей финансовой и прочей поддержкой с воли – а у меня есть чем поддержать, и пока у меня есть кусок хлеба – он будет и у Бориса – Борис, может быть, пройдет через ад, но у него есть шансы и пройти, и выйти. Какие шансы у этих детей? Откуда они? Что сталось с их родителями? Почему они здесь, полуголые, без вещей, без продовольствия? Где отец вот этой 15‑16‑летней девочки, которая ослабевшими ногами пытается переступать с камня на камень, чтобы не промочить своих изодранных полотняных туфелек? У нее в руках – ни одной тряпочки, а в лице – ни кровинки. Кто ее отец? Контрреволюционер ли, уже «ликвидированный как класс», священник ли, уже таскающий бревна в ледяной воде Белого моря, меньшевик ли, замешанный в шпионаже и ликвидирующий свою революционную веру в камере какого‑нибудь страшного суздальского изолятора? Но процессия уже закончилась. «Вороны» ушли. У вагонов стоит караул. Вагонов не так и много: всего пять штук. Я тогда еще не знал, что в 1933 году будут слать не вагонами, а поездами… Публика расходится, мы с Ириной еще остаемся. Ирина хочет продемонстрировать Борису своего потомка, я хочу передать еще кое‑какие вещи и деньги. В дипломатические переговоры с караульным начальником вступает Ирина с потомком на руках. Я остаюсь на заднем плане. Молодая мать с двумя длинными косами и с малюткой, конечно, подействует гораздо сильнее, чем вся моя советская опытность. Начальник конвоя, звеня шашкой, спускается со ступенек вагона. «Не полагается, да уж раз такое дело»… Берет на руки сверток с первенцем: «Ишь ты, какой он… У меня тоже малец вроде этого есть, только постарше… ну не ори, не ори, не съем… сейчас папаше тебя покажем». Начальник конвоя со свертком в руках исчезает в вагоне. Нам удается передать Борису все, что нужно было передать… И все это – уже в прошлом… Сейчас снова боль, и тоска, и тревога… Но сколько раз был последний раз, который не оказывался последним… Может быть, и сейчас вывезет.
* * *
От Подпорожья мы под небольшим конвоем идем к станции. Начальник конвоя – развеселый и забубенного вида паренек, лет двадцати, заключенный, попавший сюда на пять лет за какое‑то убийство, связанное с превышением власти. Пареньку очень весело идти по освещенному ярким солнцем и уже подтаивающему снегу, он болтает, поет, то начинает рассказывать какие‑то весьма путаные истории из своей милицейской и конвойной практики, то снова заводит высоким голоском: «Ой, на гори, тай жинци жн‑у‑у‑ть…» и даже пытается рассеять мое настроение. Как это ни глупо, но это ему удается. На станции он для нас восьмерых выгоняет полвагона пассажиров. – Нужно, чтобы нашим арестантикам место было. Те, сволочи, кажинный день в своих постелях дрыхают, надо и нам буржуями проехаться. Поехали. Я вытаскиваю письмо Бориса, прочитываю его и выхожу на площадку вагона, чтобы никто не видел моего лица. Холодный ветер сквозь разбитое окно несколько успокаивает душу. Минут через десять на площадку осторожненько входит начальник конвоя. – И чего это вы себя грызете? Нашему брату жить надо так: день прожил, поллитровку выдул, бабу тиснул – ну и давай, Господи, до другого дня… Тут главное – ни об чем не думать. Не думай – вот тебе и весь сказ. У начальника конвоя оказалась более глубокая философия, чем я ожидал… Вечереет. Я лежу на верхней полке с краю купе. За продырявленной дощатой перегородкой уже другой мир, вольный мир. Какой‑то деревенский паренек рассказывает кому‑то старинную сказку о Царевне‑лебеди. Слушатели сочувственно охают. – … И вот приходит, брат ты мой, Иван‑царевич к Царевне‑лебеди. А сидит та вся заплаканная. А перышки у ее серебряные, а слезы она льет алмазные. И говорит ей Иван, царевич то есть. Не могу я, говорит, без тебя, Царевна‑лебедь, ни грудью дышать, ни очами смотреть… А ему Царевна‑лебедь: Заколдовала меня, говорит, злая мачеха, не могу я, говорит, Иван‑царевич, за тебя замуж пойтить. Да и ты, говорит, Иван‑царевич, покеда цел – иди ты, говорит, к… матери. – Ишь ты, – сочувственно охают слушатели. Советский фольклор несколько рассеивает тяжесть на душе. Мы подъезжаем к Медгоре. Подпорожская эпопея закончилась. Какая, в сущности, короткая эпопея – всего 68 дней. Какая эпопея ожидает нас в Медгоре?
Пролетариат
Медгора
Медвежья Гора, столица Беломорско‑Балтийского лагеря и комбината, еще не так давно была микроскопическим железнодорожным поселком, расположенным у стыка Мурманской железной дороги с самой северной оконечностью Онежского озера. С воцарением над Карельской «республикой» Беломорско‑Балтийского лагеря Медгора превратилась в столицу ББК и, следовательно, столицу Карелии. В нескольких стах метрах к западу от железной дороги вырос целый городок плотно и прочно сколоченных из лучшего леса зданий: Центральное управление ББК, его отделы, канцелярии, лаборатории, здания чекистских квартир и общежитий, огромный, расположенный отдельно в парке, особняк высшего начальства лагеря. На восток от железной дороги раскинул свои привилегированные бараки «первый лагпункт». Здесь живут заключенные‑служащие Управления: инженеры, плановики, техники, бухгалтера, канцеляристы и прочее. На берегу озера, у пристани, – второй лагпункт. Здесь живут рабочие многочисленных предприятий лагерной столицы: мукомолен, пристани, складов, мастерских, гаража, телефонной и радио– станции, типографии и многочисленные плотничьи бригады, строящие все новые и новые дома, бараки, склады и тюрьмы: сворачиваться, сокращать свое производство и свое население лагерь никак не собирается. Медвежья Гора – это наиболее привилегированный пункт Беломорско‑Балтийского лагеря, по‑видимому наиболее привилегированного из всех лагерей СССР. Был даже проект показывать ее иностранным туристам (девятнадцатого квартала показывать бы не стали)… Верстах в четырех к северу был третий лагпункт, менее привилегированный и уже совсем не для показа иностранным туристам. Он играл роль пересыльного пункта. Туда попадали люди, доставленные в лагерь в индивидуальном порядке, перебрасываемые из отделения в отделение и прочие в этом роде. На третьем лагпункте людей держали два‑три дня – и отправляли дальше на север. Медвежья Гора была, в сущности, самым южным пунктом ББК: после ликвидации Подпорожья южнее Медгоры оставался только незначительный Петрозаводский лагерный пункт. В окрестностях Медгоры, в радиусе 25–30 верст, было раскидано еще несколько лагерных пунктов, огромное оранжерейное хозяйство лагерного совхоза Вичка, где под оранжереями было занято около двух гектар земли, мануфактурные и пошивочные мастерские шестого пункта и в верстах 10 к северу, по железной дороге, еще какие‑то лесные пункты, занимавшиеся лесоразработками. Народу во всех этих пунктах было тысяч пятнадцать… В южной части городка был вольный железнодорожный поселок, клуб и базар. Были магазины, был Госспирт, был «Торгсин» – словом, все как полагается. Заключенным доступ в вольный городок был воспрещен – по крайней мере, официально. Вольному населению воспрещалось вступать в какую бы то ни было связь с заключенными – тоже, по крайней мере, официально. Неофициально эти запреты нарушались всегда, и это обстоятельство давало возможность администрации время от времени сажать лагерников в ШИЗО, а население – в лагерь. И этим способом поддерживать свой престиж: не зазнавайтесь. Никаких оград вокруг лагеря не было. Мы попали в Медгору в исключительно неудачный момент: там шло очередное избиение младенцев, сокращали «аппарат». На воле эта операция производится с неукоснительной регулярностью – приблизительно один раз в полгода. Теория таких сокращений исходит из того нелепого представления, что бюрократическая система может существовать без бюрократического аппарата, что власть, которая планирует и контролирует и политику, и экономику, и идеологию, и «географическое размещение промышленности», и мужицкую корову, и жилищную склоку, и торговлю селедкой, и фасон платья, и брачную любовь, – власть, которая, говоря проще, наседает на все и все выслеживает, – что такая власть может обойтись без чудовищно разбухших аппаратов всяческого прожектерства и всяческой слежки. Но такая презумпция существует. Очень долго она казалась мне совершенно бессмысленной. Потом, въедаясь и вглядываясь в советскую систему, я, мне кажется, понял, в чем тут зарыта социалистическая собака: правительство хочет показать массам, что оно, правительство, власть и система, стоит, так сказать, на вершине всех человеческих достижений, а вот аппарат – извините – сволочной. Вот мы, власть, с этим аппаратом и боремся. Уж так боремся… Не щадя, можно сказать, животов аппаратных… И если какую‑нибудь колхозницу заставляют кормить грудью поросят, – то при чем власть? Власть ни при чем. Недостатки механизма. Наследие проклятого старого режима. Бюрократический подход. Отрыв от масс. Потеря классового чутья… Ну и так далее. Система – во всяком случае, не виновата. Система такая, что хоть сейчас ее на весь мир пересаживай… По части приискания всевозможных и невозможных козлов отпущения советская власть переплюнула лучших в истории последователей Макиавелли. Но с каждым годом козлы помогают все меньше и меньше. В самую тупую голову начинает закрадываться сомнение: что ж это вы, голубчики, полтора десятка лет все сокращаетесь и приближаетесь к массам, – а как была ерунда, так и осталась. На восемнадцатом году революции женщину заставляют кормить грудью поросят, а над школьницами учиняют массовый медицинский осмотр на предмет установления невинности… И эти вещи могут случаться в стране, которая официально зовется «самой свободной в мире». «Проклятым старым режимом», «наследием крепостничества», «вековой темнотой России» и прочими, несколько мистического характера, вещами тут уж не отделаешься: при дореволюционном правительстве, которое исторически все же ближе было к крепостному праву, чем советское, – такие вещи просто были бы невозможны. Не потому, чтобы кто‑нибудь запрещал, а потому, что никому бы в голову не пришло. А если бы и нашлась такая сумасшедшая голова – так ни один врач не стал бы осматривать и ни одна школьница на осмотр не пошла бы… Да, в России сомнения начинают закрадываться в самые тупые головы. Оттого‑то для этих голов начинают придумывать новые побрякушки – вот вроде красивой жизни… Некоторые головы в эмиграции начинают эти сомнения «изживать»… Занятие исключительно своевременное. …В мелькании всяческих административных мероприятий каждое советское заведение, как планета по орбите, проходит такое коловращение: сокращение, укрупнение, разукрупнение, разбухание и снова сокращение: у попа была собака… Когда, вследствие предшествующих мероприятий, аппарат разбух до такой степени, что ему, действительно, и повернуться нельзя, начинается кампания по сокращению. Аппарат сокращают неукоснительно, скорострельно, беспощадно и бестолково. Из этой операции он вылезает в таком изуродованном виде, что ни жить, ни работать он в самом деле не может. От него отгрызли все то, что не имело связей, партийного билета, уменья извернуться или пустить пыль в глаза. Изгрызенный аппарат временно оставляют в покое со свирепым внушением: впредь не разбухать. Тогда возникает теория «укрупнения»: несколько изгрызенных аппаратов соединяются вкупе, как слепой соединяется с глухим. «Укрупнившись» и получив новую вывеску и новые «плановые задания», новорожденный аппарат начинает понемногу и потихоньку разбухать. Когда разбухание достигнет какого‑то предела, при котором снова ни повернуться, ни вздохнуть, – на сцену приходит теория «разукрупнения». Укрупнение соответствует централизации, специализации, индустриализации и вообще «масштабам». Разукрупнение выдвигает лозунги приближения. Приближаются к массам, к заводам, к производству, к женщинам, к быту, к коровам. Во времена пресловутой кроличьей эпопеи был даже выброшен лозунг «приближения к бытовым нуждам кроликов». Приблизились. Кролики передохли. Так вот: вчера еще единое, всесоюзное, всеобъемлющее заведение начинает почковаться на отдельные «строи», «тресты», «управления» и прочее. Все они куда‑то приближаются. Все они открывают новые методы и новые перспективы. Для новых методов и перспектив явственно нужны и новые люди. «Строи» и «тресты» начинают разбухать – на этот раз беззастенчиво и беспардонно. Опять же – до того момента, когда – ни повернуться, ни дохнуть. Начинается новое сокращение. Так идет вот уже восемнадцать лет. Так идти будет еще долго, ибо советская система ставит задачи, никакому аппарату не посильные. Никакой аппарат не сможет спланировать красивой жизни и установить количество поцелуев, допустимое теорией Маркса‑Ленина‑Сталина. Никакой контроль не может уследить за каждой селедкой в каждом кооперативе. Приходится нагромождать плановика на плановика, контролера на контролера и сыщика на сыщика. И потом планировать и контроль, и сыск. Процесс разбухания объясняется тем, что, когда вчерне установлены планы, контроль и сыск, выясняется, что нужно планировать сыщиков и организовывать слежку за плановиками. Организуется плановой отдел в ГПУ и сыскное отделение в Госплане. В плановом отделе ГПУ организуется собственная сыскная ячейка, а в сыскном отделении Госплана – планово‑контрольная группа. Каждая гнилая кооперативная селедка начинает обрастать плановиками, контролерами и сыщиками. Такой марки не в состоянии выдержать и гнилая кооперативная селедка. Начинается перестройка: у попа была собака… Впрочем, на воле эти сокращения проходят более или менее безболезненно. Резиновый советский быт приноровился и к ним. Как‑то выходит, что, когда сокращается аппарат А, начинает разбухать аппарат Б. Когда сокращается Б – разбухает А. Иван Иванович, сидящий в А и ожидающий сокращения, звонит по телефону Ивану Петровичу, сидящему в Б и начинающему разбухать: нет ли у вас, Иван Петрович, чего‑нибудь такого подходящего. Что‑нибудь такое подходящее обыкновенно отыскивается. Через месяцев пять‑шестъ и Иван Иванович, и Иван Петрович мирно перекочевывают снова в аппарат А. Так оно и крутится. Особой безработицы от этого не получается. Некоторое углубление всероссийского кабака, от всего этого происходящее, в «общей тенденции развития» малозаметно и в глаза не бросается. Конечно, покидая аппарат А, Иван Иванович никому не станет «сдавать дел»: просто вытряхнет из портфеля свои бумаги и уйдет. В аппарате Б Иван Иванович три месяца будет разбирать бумаги, точно таким же образом вытряхнутые кем‑то другим. К тому времени, когда он с ними разберется, его уже начнут укрупнять или разукрупнять. Засидеться на одном месте Иван Иванович не имеет почти никаких шансов, да и засиживаться – опасно… Здесь уже, собственно говоря, начинается форменный бедлам – к каковому бедламу лично я никакого социологического объяснения найти не могу. Когда, в силу какой‑то таинственной игры обстоятельств, Ивану Ивановичу удастся усидеть на одном месте три‑четыре года и, следовательно, как‑то познакомиться с тем делом, на котором он работает, то на ближайшей чистке ему бросят в лицо обвинение в том, что он «засиделся». И этого обвинения будет достаточно для того, чтобы Ивана Ивановича вышибли вон – правда, без порочащих его «добрую советскую» честь отметок. Мне, по‑видимому, удалось установить всесоюзный рекорд «засиживанья». Я просидел на одном месте почти шесть лет. Правда, место было, так сказать, вне конкуренции: физкультура. Ей все весьма сочувствуют, и никто ничего не понимает. И все же на шестой год меня вышибли. И в отзыве комиссии по чистке было сказано (буквально): «Уволить, как засидевшегося, малограмотного, не имеющего никакого отношения к физкультуре, заделавшегося инструктором и ничем себя не проявившего». А Госиздат за эти годы выпустил шесть моих руководств по физкультуре…217 Нет, уж господь с ним, лучше не «засиживаться»…
* * *
Засидеться в Медгоре у нас, к сожалению, не было почти никаких шансов: обстоятельство, которое мы (тоже к сожалению) узнали уже только после «нажатия всех кнопок». Медгора свирепо сокращала свои штаты. А рядом с Управлением лагеря здесь не было того гипотетического заведения Б, которое, будучи рядом, не могло не разбухать. Инженеры, плановики, бухгалтера, машинистки вышибались вон; в тот же день переводились с первого лагпункта на третий, два‑три дня пилили дрова или чистили клозеты в Управлении и исчезали куда‑то на север: в Сороку, в Сегежу, в Кемь… Конечно, через месяц‑два Медгора снова станет разбухать: и лагерное управление подвластно неизменным законам натуры социалистической, – но это будет через месяц‑два. Мы же с Юрой рисковали не через месяц‑два, а дня через два‑три попасть куда‑нибудь в такие не предусмотренные Господом Богом места, что из них к границе совсем выбраться будет невозможно. Эти мысли, соображения и перспективы лезли мне в голову, когда мы по размокшему снегу под дождем и под конвоем нашего забубенного чекистика, топали со станции в медгорский УРЧ. Юра был настроен весело и боеспособно и даже напевал: – Что УРЧ грядущий нам готовит? Ничего путного от этого «грядущего УРЧа» ждать не приходилось…
Третий лагпункт
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-14; просмотров: 55; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.16.50.60 (0.082 с.) |