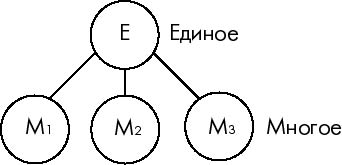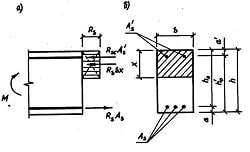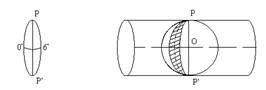Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву 
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Возникновение стиля «плетения словес» в древнерусской литературе.«Житие Сергия Радонежского», написанное Епифанием Премудрым.
Плетение словес возникает в конце XIV — начале XV веков. Момент во многом переломный: в искусстве появляются новые темы, художники ищут новые приёмы, а авторы сочинений только-только начинают интересоваться человеческими чувствами. Однако средневековый свод правил и положений всё ещё нависает над волей творца и сковывает его инициативу. В этой непростой ситуации древнерусские книжники изобретают компромисс: не нарушая старых канонов, они «прокачивают» сами способы изложения – теперь язык становится таким же изощрённым и оригинальным, как и книжные украшения – орнаменты, оплетающие заставицы и рамки..
Путешествие Афанасия Никитина в Индию в конце 60-х — начале 70-х гг. XV в. не было предпринято по чьему-либо поручению — это была поездка купца по его личной инициативе. Отправлявшийся в «Ширванскую землю» (Северный Кавказ) с путевыми грамотами своего государя — тверского князя, Никитин хотел пристроиться к каравану московского купца Василия Папина, но разминулся с ним. Под Астраханью Никитин и его товарищи были ограблены ногайскими татарами; они обратились в Дербенте за помощью к местному князю и к приехавшему раньше их московскому послу, но помощи не получили. «И мы заплакав да разошлися кои куды: у кого есть на Руси, и тот пошел на Русь, а кой должен, а тот пошел, куда его очи понесли». В числе тех, кто имел долги на Руси и кому путь домой был закрыт из-за опасности разорения и кабалы, был Афанасий Никитин. «Очи понесли» его из Дербента в Баку, оттуда — в Персию, оттуда через Гурмыз и «Индийское море»— в Индию. Направившийся в Индию от «многой беды», Никитин, по-видимому, не достиг там каких-либо торговых успехов. Товар, который Афанасий рассчитывал продать в Индии, — привезенный им с большими трудами конь — принес ему больше неприятностей, чем дохода: мусульманский хан отобрал у него этого коня, требуя, чтобы Никитин перешел в ислам, и только помощь знакомого персидского купца помогла тверскому путешественнику вернуть назад его собственность. Когда Никитин через шесть лет после начала его странствований с огромным трудом пробрался назад на Русь, он едва ли был более способен расплатиться с долгами, чем в начале пути. Единственным плодом путешествия Никитина были его записки. Сохранившееся в сборнике конца XV — начала XVI в., а также в независимом летописном своде 80-х гг. (Софийская II — Львовская летописи) «Хожение за три моря» Никитина было совершенно неофициальным памятником; оно было, благодаря этому, лишено традиционных черт, характерных для церковной или официальной светской литературы. С «хожениями» и «паломниками» предшествующих веков его связывали только немногие особенности: перечисление географических пунктов с указаниями расстояний между ними, указание на богатство той или иной страны. В целом же «Хожение» Никитина было путевым дневником, записками о его приключениях, рассказывая о которых автор еще и понятия не имел, как они окончатся: «Уже проидоша (прошли) 2 великыа дни (пасхи) в бесерменьской земле, а христианства не оставих; далее бог ведаеть, что будеть... Пути не знаю, иже камо (куда) пойду из Гундустана...» Впоследствии Никитин все-таки направился на Русь и нашел путь «из Гундустана», но и здесь запись его странствий точно следует за ходом путешествия и обрывается на прибытии в Кафу (Феодосию).
Записывая свои впечатления на чужбине, тверской купец, вероятно, надеялся, что его «Хожение» когда-нибудь прочтут «братья русъстии християне»; опасаясь недружественных глаз, он записывал наиболее рискованные мысли не по-русски. Но все эти читатели предвиделись им в будущем, может быть, после смерти (как и случилось). Пока же Никитин просто записывал то, что он действительно ощущал: «И тут есть Индийская страна, и люди ходят все наги... А детей у них много, а мужики и жонки все нагы, а все черныя: аз куды хожу, ино за мною людей много, да дивуются белому человеку...» Попавший в чужую страну, тверской купец далеко не все понимал в окружающей обстановке. Как и большинство людей, оказавшихся за рубежом, он был готов видеть в любом, даже в самом необычном случае проявление своеобразных местных обычаев. О некотором легковерии автора свидетельствуют и его рассказы о птице «гукук», испускающей изо рта огонь, и об обезьяне — «князе обезьянском», у которой есть свое войско и которая посылает многочисленную рать на своих противников. Но там, где Афанасий Никитин опирался не на рассказы своих собеседников, а на собственные наблюдения, взгляд его оказывался верным и трезвым. Индия, увиденная Никитиным, совсем не походила на полную «всякого богатьства» страну из «Сказания об Индийском царстве», где все счастливы и «нет ни татя, ни разбойника, ни завидлива человека». Индия, увиденная Никитиным, — страна далекая, с особой природой и своими обычаями, но по устройству такая же, как и все известные русскому путешественнику земли: «А земля людна вельми (очень многолюдна), а сельскыя люди голы вельми (т. е. бедны), а бояре сильны добре и пышны вельми». Никитин ясно осознал разницу между завоевателями — «бесерменами» и основным населением — «гундустанцами». Заметил он и то, что мусульманский хан «ездит на людях», хотя «слонов у него и коний много добрых», а «гундустанци все пешеходы... а все наги да босы». Бесправный чужестранец, обиженный «бесерменским» ханом, Никитин сообщил «индеянам», что он «не бесерменин»; он не без гордости отметил, что «индеяне», тщательно скрывающие свою повседневную жизнь от мусульман, от него, Афанасия, не стали «крыти (скрываться) ни в чем, ни о естве, ни о торговле, ни о намазу (молитве), ни о иных вещех, ни жон своих не учали крыти».
Однако, несмотря на его сочувствие «голым сельским людям» Индии, Никитину, естественно, было на чужбине тоскливо и одиноко. Тема тоски по родине, пожалуй, основная тема «Хожения». Тема эта присутствует не только в словах Никитина о том, что на свете нет страны, подобной Русской земле, «хотя бояре Русской земли несправедливы» (это замечание было изложено на всякий случай по-тюркски), но и в других местах, где тоска по родине отражена не прямо, а косвенно. Никитин бранит «псов бесермен», уверивших его, что в Индии «много нашего товару» (т. е. товара, годного для продажи в России), и побудивших совершить это трудное путешествие, жалуется на дороговизну: «А жити в Гундустане, ино вся собина (наличные средства) исхарчити, занеже у них все дорого: один семи человек, ино по полутретья алтына харчю идеть на день, а вина есми не пивал...» Главная беда, более всего угнетавшая Никитина, — это отдаление от родного языка и от веры, которая для него была неразрывно связана с привычным бытом. Угнетали Никитина не только прямые попытки обратить его в мусульманство, но и невозможность соблюдать обычаи родины на чужбине: «А со мною нет ничего, никакоя книгы, а книгы есмя взяли с собою с Руси, ино коли мя пограбили, ини их взяли...» Тюркский язык, которым пользовался Никитин в Индии, постепенно начал вытеснять из его памяти родной язык. Особенно выразительны в этом отношении те «помышления», в которые впал Никитин после того, как один из его «бесерменских» собеседников сказал ему, что он не кажется «бесерменином», но не знает и христианства. Последние связи с родной землей обрываются: начав с обращения к христианскому богу, Никитин (может быть, незаметно для самого себя) переходит на мусульманскую молитву. Написанные для себя, записи Никитина представляют собой один из наиболее индивидуальных памятников Древней Руси: мы знаем Афанасия Никитина, представляем себе его личность несравненно лучше, чем личность большинства русских писателей с древнейших времен до XVII в. Автобиографичность и лиричность «Хожения за три моря», передающего душевные переживания и настроение автора, были новыми чертами в древнерусской литературе, характерными именно для XV в. Своей непосредственностью и конкретностью «Хожение за три моря» напоминает рассмотренную выше записку Иннокентия о последних днях жизни Пафнутия Боровского. Но, конечно, Афанасий Никитин — гораздо более яркая и интересная фигура, чем Иннокентий. Личный характер «Хожения», способность его автора раскрыть для нас свое душевное состояние, свой внутренний мир — всеми этими чертами дневник Афанасия Никитина перекликается с величайшим памятником древнерусской литературы, написанным два века спустя, — «Житием протопопа Аввакума».
Особенности языка: Переписка Ивана Грозного с Курбским. Наиболее важное место в творчестве Ивана Грозного занимает его переписка с Курбским. Выходец из знатного рода (связанного с ярославскими князьями), член правительственной группы 50-х гг. — «избранной рады» и участник казанского похода, А. М. Курбский бежал из России в 1564 г., опасаясь царской опалы. Оказавшись в польской Ливонии, Курбский обратился к царю с обличительным посланием, обвинив царя в несправедливых гонениях на верных воевод, завоевавших для России «прегордые царства». Царь ответил Курбскому обширным посланием, почти целой книгой; завязалась знаменитая переписка. Особенностью этой переписки, отличавшей ее от большинства посланий предшествующих веков, действительно адресованных конкретным лицам и лишь потом ставших предметом широкого чтения, было то, что переписка царя с Курбским с самого начала имела публицистический характер., В этом отношении она была сходна с одним более ранним посланием — с посланием «кирилловских старцев» (Вассиана Патрикеева) Иосифу Волоцкому. Конечно, царь отвечал Курбскому, а Курбский — царю, но ни тот ни другой не собирались ни в чем переубеждать друг друга. Они писали прежде всего для читателей, так же как авторы «открытых писем» в литературе нового времени. Первое послание Ивана IV Курбскому было названо «посланием» против «крестопреступников» (т. е. изменников, нарушителей присяги) «во все его Российское государство». Споря с «крестопреступниками», царь, естественно, исходил из задач этой полемики. Читателям из «всего Российского государства» нужно было доказать преступность обличаемых в послании бояр. В ответ на первое послание царя Курбский написал краткий язвительный ответ, высмеивая стиль этого послания и его огромный объем; однако он не сумел доставить это послание в Россию. В 1577 г. царь осуществил долгий и успешный поход в Ливонию, завоевав многочисленные города по берегам Западной Двины и вплотную подойдя к Риге. Завоевав город Вольмар (Валмиеру), куда бежал за тринадцать лет до этого Курбский, Грозный послал оттуда второе послание Курбскому. В 1579 г., во время польско-литовского контрнаступления Курбский написал царю свое третье послание. В споре с Курбским царь отстаивал идею ничем не ограниченной царской власти, доказывая, что вмешательство бояр и духовенства в управление губит государство. При этом царь ставил в вину своему противнику «боярское правление» 30-40-х гг. XVI в., хотя ровесник царя Курбский не мог принимать участия в политике этих лет. Фактически оба противника исходили из одного идеала — из идей Стоглавого собора, укрепивших русское «пресветлое православие», и спорили о том, кто из них более верен этим идеям. И царь, и Курбский охотно обращались в этом споре к «божьему суду». Грозный заявлял в 1577 г., что его успехи в войне — доказательство того, что божье «смотрение» (провидение) на его стороне, а спустя два года Курбский точно так же объяснял неудачи царя божьим судом. Важное место в полемике (особенно первом послании Грозного) занимали пространные ссылки на церковную литературу. Но, стремясь доказать читателям из «всего Российского государства» свою правоту и преступность «крестопреступников», царь не мог ограничиваться только обширными цитатами из «отцов церкви» и риторикой. Ему нужны были живые выразительные примеры понесенных им «обид». И царь нашел такие примеры, нарисовав в послании Курбскому картину своего сиротского детства в период «боярского правления», когда правители, «наскочиша друг на друга», «казну матери нашея перенесли в Большую казну и неистова ногами пихающе». Многие из этих сцен перекликались и даже совпадали с аналогичными описаниями в приписках к Лицевому своду. Особенно ярки были в_прслании Грозного сцены сиротскогодетства царя; сцены эти сохранили выразительность до нашего времени. Неоднократно использовались историками и художниками. Царь уверял, что он терпел недостаток в еде и одежде, а главное — в «воле» и внимании старших: «Едино вспомянути (вспомню одно): нам бо в юности детская играющим, а князь Иван Васильевич Шуйский сидит на лавке, локтем опершися об отца нашего постелю, ногу положа на стул», и даже не смотрит на маленького Ивана и его брата. Картина эта едва ли была исторически точной. Но в выразительности ей отказать нельзя было — отсюда и ее литературное значение. Курбский не оставил это место в послании царя без ответа. Политический противник Ивана IV, он оказался его противником и в литературных вопросах. Высмеяв «широковещательное и многошумящее» Первое послание царя, Курбский особенно резко осудил царя за введение в литературу подобных бытовых сцен — басен «неистовых баб», как он именовал их. Политическая полемика между обоими противниками дополнялась и чисто литературной полемикой — о границах «ученого» и «варварского» в литературе. А. М. Курбский. Курбский был не менее образованным человеком, чем Иван Грозный. Дядей его был Василий Тучков, один из редакторов «Великих Миней Четий»; от писателей макарьевского кружка Курбский воспринял представление о необходимости высокой серьезности и торжественности в литературе. Мы уже отмечали, что в споре между Грозным и Курбским у обоих противников были некоторые общие исходные воззрения (без таких общих посылок и самый спор был бы невозможен). Оба они считали, что в середине XVI в. (время Стоглавого собора) Русское государство было страной «пресветлого православия» — каждый считал себя верным этому «пресветлому православию» и обвинял другого в отходе от него. Именно поэтому Курбский именовал Россию «Святорусским царством» и, пребывая в Западной Руси, защищал православную церковь и от католиков, и от русских еретиков (таких, как Феодосии Косой), которые, бежав в Литовскую Русь, примкнули там к реформационному движению. Близкий по своим общественным позициям к нестяжателям первой трети XVI в., Курбский, однако, был далек от писательской манеры Вассиана Патрикеева, любившего юмор и просторечие. Ближе к Курбскому был другой автор XVI в. — Максим Грек (которого Курбский знал до своего бегства и глубоко чтил); возвышенная риторика Курбского, сложность его синтаксиса — все это напоминает Максима Грека и те греко-римские образцы; которым подражал бывший гуманист. Послания Курбского Грозному представляли собой блестящий образец риторического стиля — недаром Курбский включил в них одно из сочинений великого римского оратора Цицерона. Речь автора в Первом послании высказана как бы на едином дыхании, она логична и последовательна, но начисто лишена каких-либо конкретных деталей. Высокий ораторский пафос этого обращения был прекрасно передан А. К. Толстым, включившим его стихотворное переложение в балладу «Василий Шибанов». Ответ царя, как мы знаем, отнюдь не был выдержан в такой строгой манере. Грозный не чуждался и явно скоморошеских приемов. Включал Грозный в послание, как мы знаем, и чисто бытовые сцены. Курбскому такое смешение стилей, введение «грубого» просторечия казались безвкусицей. Нелепо и смехотворно, заявил он в ответном послании, посылать подобные сочинения «ученым и искусным мужем» и особенно — в «чюжую землю, где же некоторые человеки обретаются», опытные не только «в грамматических и риторских, но и в диалектических и философских учениях». Ему показалось неприличным упоминание царевой постели, на которую опирался князь Шуйский, и другое место из послания, где говорилось, что у Шуйского, пока он не разворовал царскую казну, была всего одна шуба — «мухояр зелен на куницех, да и те ветхи...». «Туто же и о постелях, о телогреях и иные безчисленыя, воистину якобы неистовых баб басни; и так варварско...» — иронизировал Курбский. Перед нами — подлинная литературная полемика, спор о том, в каком стиле должны писаться послания. Но если в политическом диспуте Курбский нередко «побивал» царя, высмеивая наиболее нелепые из его обвинений против казненных советников, то в литературном споре он едва ли мог считаться победителем. Силу «варварских» аргументов царя он, несомненно, ощущал и обнаружил это в своем произведении, написанном в совсем иной, повествовательно-исторической форме Эта принципиальная стилистическая неоднородность послания Грозного привела к возникновению в переписке не только политического, но и чисто литературного спора. В "Кратком отвещании князя Андрея Курбского на зело широкую епистолию великаго князя Московского" возникает еще один упрек: "...не токмо цареви, так великому и во вселенней славимому, но и простому, убогому воину сие было не достойно" так писать, да еще и посылать это "в чюжую землю, идеже некоторые человецы обретаются, не токмо в грамматических и риторских, но и в диалектических и философских учениях искусные". Эта фраза свидетельствует о том, что Курбский стремился стать выше своего оппонента не только в моральном, но и в культурном плане и ориентировался он при этом на западную культуру.Для него Грозный становится неумелым литературным варваром, целыми книгами и паремиями цитирующим Священное Писание, тогда как сам он обращается не только к авторитету Библии и сочинениям отцов Церкви, но и к произведениям античных авторов. Литературное наследие Ивана Грозного, как и наследие Андрея Курбского, не исчерпывается перепиской, включающей пять посланий (три написаны Курбским и два - Грозным).Оба корреспондента были весьма плодовитыми авторами, заслуживающими внимания и вне зависимости друг от друга. Послания - основной жанр литературного творчества Ивана Грозного. Помимо переписки с Курбским, хорошо известны его послания опричнику Василию Грязному, игумену Кирилло-Белозерского монастыря Козьме, грамоты правителям других государств (Иоанну III Шведскому, Стефану Баторию, Елизавете Английской и др.), беседы с иностранными дипломатами, гимнографические произведения (канон Ангелу Грозному), Духовная.В летописи отражен диспут Ивана Грозного с протестантским пастором Яном Рокитой. 20. «Повесть о Петре и Февронии». Особенности сюжета. Образ крестьянки Февронии.Связь повести с устным народным творчеством и искусством 15 века. Стиль повести. «Повесть о Петре и Февронии», основанную, очевидно, на житийном рассказе XV в. Существование рассказа о Петре и Февронии, составленного еще до конца XV в., доказывается тем, что сохранилась церковная служба XV в., посвященная муромскому князю Петру, победившему змея, и его мудрой супруге Февронии, с которой Петр был похоронен в едином гробе. Очевидно, основной сюжет повести сложился еще до Ермолая-Еразма. Сюжет этот таков. К жене мудрого царя Павла повадился летать змей, принимавший облик ее мужа. Против змея выступает брат Павла Петр, побеждающий его; но от крови змея, брызнувшей на Петра, он заболевает — тело его покрывается струпьями. Петра излечивает мудрая крестьянская девушка Феврония; в награду она требует князя себе в мужья. Сюжет повести перекликается со многими произведениями русского и мирового фольклора; отразился он и в письменных источниках средневековья. В знаменитом западноевропейском (кельтском, французском) сказании о Тристане и Изольде рассказ тоже начинается с победы героя (Тристана) над змеем (драконом); излечивает его героиня (Изольда). Однако сюжетное совпадение «Повести о Петре и Февронии» с «Тристаном и Изольдой» еще больше подчеркивает различия между ними в трактовке героев. «Повесть о Петре и Февронии», в отличие от легенды о Тристане и Изольде, — это рассказ не о любви, не о всепобеждающей страсти героев, а о верной супружеской жизни, причем основным мотивом этой повести является ум героини рассказа, ее умение «переклюкать» (перехитрить) своих собеседников — черта, сближающая Февронию с летописной Ольгой из «Повести временных лет». Феврония появляется в повести после того, как заболевший Петр, ища излечения, посылает по всей Рязанской земле «искати врачев». Княжеский отрок (слуга) во время этих поисков попадает в деревню Ласково и видит девушку за ткацким станком; перед нею прыгает заяц. На вопрос отрока, где остальные жители дома, она отвечает, что родители ее пошли «взаем (взаймы) плакати», а брат отправился «сквозь ноги в нави зрети (смотреть смерти в глаза)». Отрок не может разгадать эти загадочные слова, но девушка объясняет ему, что родители пошли оплакивать покойника: когда они умрут, по ним так же будут плакать, значит, они плачут взаймы; брат же ее бортник, добывающий мед с деревьев и глядящий себе под ноги, чтобы не сорваться и не погибнуть. Убедившись в мудрости Февронии (так зовут девушку), отрок просит ее излечить своего князя. Феврония соглашается, но с условием, что Петр возьмет ее в жены. Как понимать это условие? Читатель, который воспринимал повесть только как житие, а в Февронии видел прежде всего святую, мог видеть здесь проявление ее мудрости — она заранее знала, что Петр предназначен ей в мужья. Но люди, воспитанные на народных сказках, где часто встречается подобное условие, могли воспринимать этот мотив и иначе — в чисто бытовом плане. Живя в своей деревне Ласково, Феврония едва ли могла даже видеть Петра до того, как он обратился к ней за излечением. У читателя, естественно, создается впечатление, что к Петру Февронию влекла не любовь (в легенде о Тристане и Изольде упоминается волшебный любовный напиток), а лишь желание не упустить свое, счастье. Такой же ум и умение «переклюкать» собеседника обнаруживает Феврония и при переговорах с Петром. Вначале княжич пытался «искусити» Февронию: он послал ей клочок льна и потребовал, чтобы она выткала из него «срачицу (сорочку) и порты и убрусец». Но Феврония отвечает нелепостью на нелепость; она соглашается выполнить просьбу Петра при условии, если княжич приготовит ей из щепочки ткацкий станок. Сделать это Петр, естественно, не может и поэтому отказывается от своего требования. После излечения Петр пытается нарушить обещание жениться на крестьянке. Но Феврония предусмотрительно велела смазать все его язвы, кроме одной, и вероломство Петра приводит к тому, что от «того струпа начаша многи струпы расходитися на теле его»; для окончательного излечения Петру приходится выполнить свое обещание. Петр женится на Февронии, но бояре Муромской земли не желают, чтобы княгиней у них была крестьянка. Она соглашается уйти из Мурома, но с условием, что ей разрешат взять с собойто, что она попросит. Бояре соглашаются и княгиня просит: «токмо супруга моего князя Петра». Вместе с Петром и Февронией из Мурома на корабле отплывают и некоторые их приближенные. Среди них некий женатый человек, который, подстрекаемый бесом, «возрев (посмотрел) на святую с помыслом». Тогда Феврония посоветовала ему зачерпнуть и испить воды с одного борта судна, затем — другого. «Равна ли убо си вода есть, или едина слажщи?» — спросила она его. Тот ответил, что вода одинакова. «И едино естество женское есть. Почто убо свою жену оставя, чюжия мыслиши!» — объяснила Феврония. Как понимать эти сцены? Как и история женитьбы Петра на Февронии, они могут быть восприняты по-разному: и как указание на мудрость героини, и как свидетельство ее своеобразного лукавства. Феврония предвидит, что глупые бояре не поймут, что именно попросит у них княгиня, и таким образом «переклюкивает» их. Так же и ее ответ нескромному попутчику на корабле имеет не открыто поучительный, а шутливый характер; подобным же образом отвечала на нескромные домогательства французского короля одна из героинь «Декамерона» Боккаччо (день I, новелла 5). Изгнание Петра и Февронии длилось недолго: мятежные бояре оказываются неспособными удержать власть, и Петра и Февронию вновь призывают в Муром. Заключительная сцена повести глубоко поэтична. Под старость герои вместе постригаются в монахи и хотят умереть также вместе. Петр первым ощущает приближение смерти и зовет Февронию «отити» вместе. Феврония вышивает «воздух» — ткань для святой чаши. Она просит мужа подождать. Но Петр ждать не может. Тогда она дошивает только лик святого, втыкает иглу в ткань, «приверте нитью, ею же шиаше (вышивала)», и умирает вместе с мужем. После смерти Петра и Февронии их пытаются похоронить раздельно, но чудесным образом оба героя оказываются в едином гробе. «Повесть о Петре и Февронии» была тесно связана с фольклором, перекликается она и с «бродячими сюжетами» мировой литературы. Из русских сказок повесть больше всего напоминает сказки «Семилетка» и «Стрижена девка», где также рассказывается о женитьбе знатного человека на крестьянской девушке, доказывающей свою мудрость решением трудных задач; здесь также есть мотив изгнания героини, забирающей с собой то, что ей всего дороже, — своего мужа [7]. Но в русских сказках (сохранившихся только в записях нового времени) нет мотива болезни и излечения знатного мужа. Очевидно, однако, что этот мотив также присутствовал в фольклорном сюжете, использованном Ермолаем-Еразмом. В одной из новелл «Декамерона» Боккаччо (день III, новелла 9) героиня (Джилетта из Нарбонны) в награду за излечение французского короля получает в мужья одного из придворных. Неравный брак приносит ей горе и изгнание, но мудрость героини, как и в русском сказании, помогает ей добиться победы. Тот же сюжет был использован и Шекспиром в комедии «Все хорошо, что хорошо кончается». Очевидно, сочетание мотивов неравного брака и излечения героя героиней было известно и русскому фольклору XV-XVI вв. Конец повести о Петре и Февронии также связан с фольклорными мотивами и опять напоминает «Тристана и Изольду» — там любовь героев тоже оказывается сильнее смерти (из могилы Тристана вырастает куст терновника, соединяющий ее с могилой Изольды). Нетрадиционный характер житийной «Повести о Петре и Февронии» делал ее, очевидно, неподходящей для агиографических канонов XVI в. «Повесть о Петре и Февронии», хотя и созданная одновременно с окончательной версией «Великих Миней Четиих», (Успенские и Царские Минеи), в их состав включена не была. Фольклорные мотивы повести, ее лаконизм, отсутствие этикетных черт — все это делало ее чуждой агиографической школе митрополита Макария. Но эти же особенности делают «Повесть о Петре и Февронии» одним из лучших памятников литературы Древней Руси. Стиль: Характеристика Февронии. Героиня повести —1 дева Феврония.Она мудра народной мудростью.Первое появление в повести девушки Февронии запечатлено в зрительно отчётливом образе.Её находит в простой крестьянской избе посланец муромского князя Петра, заболевшего от ядовитой крови убитого им змия.В бедном крестьянском платье Феврония сидела за ткацким станком и занималась «тихим» делом -— ткала полотно, а перед нею скакал заяц, как бы символизируя собой слияние её с природой.Её вопросы и ответы, её тихий и м
|
|||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-05-27; просмотров: 406; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.149.243.18 (0.049 с.) |